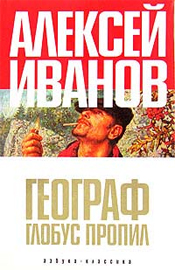
Осень уже воцарилась, и люди загрустили, задумались. Чтиво для ума сегодня и в обзоре: пермский писатель-историк, минский бард-путешественник и журналист, он же ваятель проникновенной мистики
...
Еще можно поймать крупинки летнего тепла на улице, но осень уже воцарилась, и люди загрустили, задумались. Чтиво для ума сегодня и в обзоре: пермский писатель-историк, минский бард-путешественник и журналист, он же ваятель проникновенной мистики.
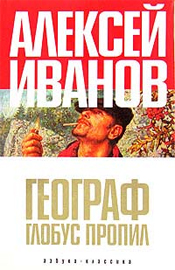 Алексей Иванов. Географ глобус пропил
Алексей Иванов. Географ глобус пропил
Издательство: Азбука, 2008 г.
Жанр: современная русская проза
Алексей Иванов, пермский музейный работник, в последние года три приобрел и славу, и - уже международное – признание, и тиражи. В нем чудесным образом уживаются два Алексея Иванова: бытописатель и фантаст. Кем только не называют автора «Блудо и МУДО» и «Сердца Пармы»: лучший писатель года, самый спорный писатель десятилетия. Почитайте же – и поспорьте. Шукшины современного разлива на дороге не валяются. Валяются их герои – под хмельком, по причине оглушения тупым предметом или просто от нахлынувших чувств. Хороша земля-матушка, хороши наши уральские просторы... Герои Иванова любят свою землю той самой удивительной любовью спортивного туриста, лесника и историка в одном. Складывается впечатление, что автор самолично излазил каждый камень в окрестностях, каждый пригорок и стог. Его герои мало напрягаются и многое знают. Они антисоциальны, интеллигентны, неудобны.
Роман «Географ глобус пропил» написан в середине девяностых, он замечательно передает дух того времени – начала 90-х. Все чего-то побаивались, недоедали, тосковали по ушедшей эпохе и не хотели заглядывать в будущее. Будущее было туманным.
Один из читателей «Географа» написал в форуме: «Я человек непьющий, поэтому мне не понравилось». Поколению молодому книга может резко не понравиться, не все понимают, как можно ностальгировать по ТАКОМУ. Вечно пьяненькие мужчины, поражающие своей заурядностью, обиженные на весь мир женщины, легко переходящие из рук в руки – от мужа к другу мужа, от друга мужа к соседу. Главный герой, учитель Виктор Служкин, не просто зауряден, он безнадежен. Кое-как проводит уроки в школе, борясь с издевательствами со стороны учеников, ссорится с педсоставом, влюбляется в девятиклассницу, обладает уникальным знанием об истории родного края, его флоре и фауне - и пьет, пьет, пьет… Будут и приключения юных сплавщиков под предводительством Служкина, и воспоминания героев о своей юности, и страсти любовные. А природа описана так, что вы ее непременно увидите как в кино.
Книга читается на одном дыхании, она очень живая, своя, и, если уж понравилась, то западет в душу надолго – и заставит скупить все книги спорного и разностороннего писателя Иванова оптом.
Я просыпаюсь в таком состоянии, словно всю ночь провисел в петле. Еще не открыв глаза, я вслушиваюсь в себя и ставлю диагноз: жестокое похмелье. О господи, как же мне плохо... Все еще спят. Я вываливаюсь из палатки на улицу. Холодно, как в могиле. Моросит. Стена Семичеловечьей покрыта морщинами, словно скала дрожала от стужи, когда застыла. Над затопленным лесом холодная полумгла. Где вчерашнее небо, битком набитое звездами? Сейчас оно белыми комьями свалено над головой. По нашему лагерю словно проскакали монголо-татары. Все вещи разбросаны.
Тарелки втоптаны в грязь. В открытых котелках стоит вода. В черных, мокрых углях кострища - обгорелые консервные банки. Я бреду к кострищу и усаживаюсь на сырое бревно. Дождь постукивает меня в голову, словно укоряет: дурак, что ли? Дурак. Раз напился, так, конечно, дурак. Я закуриваю. В голове начинает раскручиваться огромный волчок. Хочется пить. Хочется спать. Нич-чего не хочется делать.
Похмелье, плохая погода - они не только в моем теле, не только в природе. Они в душе моей. Это у души трясутся руки и подгибаются ноги. Это у нее мутно в голове и ее тошнит. Это в ней идет дождь и холод лижет кости. А сам я - это много раз порванная и много раз связанная, истрепанная и ветхая веревка воли. И мне стыдно, что вчера эта веревка снова лопнула. Мне стыдно перед Машей, что я вчера распустил руки. Ведь она девочка, еще почти ребенок, а я вдвое старше ее и вдесятеро искушеннее, в сто раз равнодушнее и в тысячу раз хитрее. Для нее, примерной ученицы, я не парень, не ухажер. Я - учитель. А на самом деле я - скот. Я могу добиться от нее всего. Это несложно. Но что я дам взамен? Воз своих ошибок, грехов, неудач, который я допер даже сюда?... Куда я лезу? Маша, прости меня... Мне стыдно перед Овечкиным. Иззавидовался, приревновал... Нос разъело. Переехал ему дорогу на хромой кобыле. Пусть уж простит меня Овечкин. Хоть бы он ничего не заметил!... Я больше не буду. Мне стыдно перед отцами. Свергли меня - мало, да? Опять напился! Изолировал их от девочек - мол, держать себя в руках не умеете. Не доверяю, мол. А сам?... Бивень!
Все. Самобичевание изнурило меня. Зоркие мои глаза давно уже видят прислоненную к противоположному бревну открытую бутылку. В ней настойка водки на рябине. Есть водка на рябине - значит, есть Бог на небе. Я беру бутылку и пью из нее. Потом я начинаю заниматься делами. Мир беспощаден.
Помощи ждать неоткуда. Мне даже Градусов не помогает, хотя, между прочим, он сегодня тоже дежурный. Я разжигаю костер, отогреваюсь в его тепле и иду мыть котлы. Потом ворошу мешки с продуктами и начинаю варить кашу на завтрак.
Конечно, между делом не забываю и о бутылке. Когда она иссякает, завтрак готов. Я трясу шест палатки и ору: "Подъе-ом!... Каша готова!" Я решил: кончено. Маши больше нет. Я никого не люблю.
Вершина Семичеловечьей - это плато, поросшее соснами. Оно полого скатывается к торчащим над обрывом зубцам Братьев. Между зубцами - ступенчатый лабиринт кривых, мшистых расселин, загроможденных валежником. Мы выходим к кромке обрыва. Внизу - страшная пустота. Впереди, до горизонта, разливается даль тайги. Тайга туманно-голубая, она поднимается к окоему пологими, медленными волнами. И нету ни скал, ни рек, ни просек, ни селений - сплошная дымчатая шкура.
- Эротично!... - бормочет Чебыкин, восторженно озираясь.
 Михаил Воеводин. ИНДИЯ. Записки белого человека
Михаил Воеводин. ИНДИЯ. Записки белого человека
Издательство: Амфора, 2008 г.
Жанр: путешествия, документальный роман.
Гори, моя душа,
Пускай огонь сжигает
Мосты ко временам,
Где жил, собой греша.
Пока светла моя звезда, и воздуха хватает,
И разум злом не помрачен, гори, моя душа!
Как-то до сих пор издательства не жаловали путеводческие заметки. Книг с пометкой «роман-путешествие» очень мало. Боятся, что неинтересно будет? Может быть. Это уж как напишут. Мы уже знакомились с блестящим романом Карин Мюллер (http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3615), а сегодня рецензируем путевой дневник минского барда (отрывок его песни в эпиграфе) Михаила Володина о путешествии по Индии. Чем хороша книга: это действительно путевой дневник, хотя автор открещивается от такого штампа, но упор делаем на слове «дневник» - блог, как сейчас принято говорит. Чем она плоха: в ней много «я». Гораздо больше, чем путевых наблюдений. Так и хочется сказать «путЁвых». Книга открывает (ура!) новую серию «Амфора Travel», остается надеяться, что в следующих книгах будет больше дневника, меньше человека. Поскольку «Записки белого человека» повествуют, все-таки, о человеке, не о стране. О переживаниях, ощущениях. Все крутится вокруг тела, мыслей, чаяний. Иногда мелькают картинки, обрывочные сведения из истории, которые, судя по стилю, вполне могли быть выдуманы. Это настоящий блог о личном. Его можно написать, сидя дома и не заморачиваясь никакими индиями.
Нельзя сказать, что книга плохая, она просто не в теме, хотя впечатлений от путешествия в ней тоже много. Мы догадываемся, где все происходит, читаем истории о встречах с местными жителями, о передвижениях по городам и странным закоулкам, которые всегда ведут внутрь себя или в кого-нибудь другого. Автор зациклен на себе, вот, что я хочу сказать. Это не плохо. Это не столь интересно, если вдруг решил что-то почитать об Индии глазами обывателя. Иногда складывается ощущение, что все индийское глубоко противно автору, но он зачем-то упорно передвигает свое томящееся в суете и тревоге тело по стране, матерясь и страдая по родине. Либо ему, как человеку творческому, просто все равно где находиться, чтобы черпать вдохновение. И он привычно переводит впечатления в песню. Роман-песня. Ииии, начали!...
- Джулэй! – повторил я приветствие погромче и на всякий случай еще раз постучал в полуприкрытую дверь. Где-то в доме послышались шаги, а затем и ответное «джулэй». В проеме возникла старуха с ребенком в руках.
- Можно переночевать? – спросил я по-английски.
Вместо ответа старуха прокричала что-то в глубину дома, оттуда раздался шум, и вскоре в дверях показалась сначала голова, а затем и ее хозяин.
- Джулэй, - повторил я еще раз ладакхское «здрасте» и получил в ответ фразу на вполне английском:
- У полной луны тридцать три здрасте.
Старик выглядел не более нормально, чем его речь. На одной ноге у него была кроссовка, на другой – тапок. Выше шли штаны с ширинкой без единой пуговицы и старый домотканый свитер. Старик стоял в дверях и улыбался. И улыбка выдавала его безумие больше, чем одежда. Он кривлялся, как ребенок, выставляя напоказ зубы и щуря глаза.
- У вас есть свободные комнаты? – спросил я, ни на что не надеясь.
- Конечно, - сказал старик, продолжая строить рожи. – Третий этаж пустой!
Он явно над нами издевался – разговор шел на пороге видавшего виды двухэтажного дома, одиноко стоявшего у подножья горы. Из четырех видневшихся на берегу озера домов этот был последним. Вместе с разговором с безумным стариком исчезала надежда на нормальный ночлег.
- Стоило переться шесть часов, чтобы тут же отправиться назад в Лех! – недовольно бросил Том. Все это время англичанин молча стоял рядом. Позади в джипе остались еще двое наших спутников, Пит и Гарри. Как нормальные австралийцы, они были изрядно ленивы и предоставили вести переговоры нам с Томом. Где ночевать, их так же мало волновало, как и все прочее – когда обедать, куда ехать и что смотреть. По сути, им и озеро было «по барабану»! Всю дорогу они наяривали в две гитары рэгги и были так поглощены игрой, что не замечали происходящего вокруг. В ста метрах от джипа лежало Пантонг-Тсо – самое красивое из когда-либо виденных мной озер. А из джипа доносилось задорное попурри из мелодий великого растамана. Озеро Пангонг – это узкая соленая ванна на высоте четырех с лишним километров на краю света! Чтобы сюда добраться, надо получить специальный пропуск, пересечь занесенный снегом пятикилометровый перевал Чанг-Ла, проехать пять военных постов… И вот, преодолев все это, мы должны уезжать несолоно хлебавши!
 Дмитрий Глуховский. Сумерки
Дмитрий Глуховский. Сумерки
Издательство: Популярная литература, 2007 г.
Жанр: мистика
Глуховский, он, знаете ли, такой нехочуха. В интервью он говорит, что не хочет зарабатывать на своих книгах, пользующихся бешеной популярностью, поэтому сразу выкладывает в Интернете главу за главой по мере написания. И «Сумерки»-то его вовсе не триллер, как многие считают, а роман-метафора. Он не хочет повторяться, быть «поточным» писателем, и его книги непохожи. Если «Метро 2033» напоминает компьютерную игру, жесткий экшн (http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=6), в «Сумерках» мы встречаемся с другим Глуховским: тонким, думающим, весьма образованным.
Герой книги напоминает географа Служкина, пропившего глобус: он тоже неудачник, живущий только для себя. Дмитрий – переводчик, он переводит технические инструкции с английского, но однажды получает в бюро переводов бесценный исторический документ на испанском. И берется за него ради денег, хотя испанский знает только со словарем. Пока Дмитрий переводит таинственный документ, добывая каждую его часть с потерями и лишениями, и крепко завязнув в интригующем сюжете, перед читателем открывается неприглядная картина грядущего Апокалипсиса: землетрясения истязают землю, проглатывая целые города. Герой «Сумерек» пока еще без видимого интереса, вскользь слушает страшные новости по радиоприемнику, а читатель уже понимает, что тихоня Дмитрий – это Бэтмен, и в его руках – судьба мира. Старинная рукопись шаг за шагом затянет переводчика в пучины истории древних майя, мистические существа будут стучаться в его дверь, тропическая лихорадка накроет его в современной московской квартире, а из зеркала выглянет испанец, похороненный заживо в ритуальном колодце майя много-много веков назад.
Очень глупо сравнивать Глуховского с Чаком Палаником или бездарнейшим и пустым Дэном Брауном, как делают некоторые рецензенты, он – наш, он поднимает знамя литературы на своем личном фронте, и спасибо за это, и – вы пишите, пожалуйста, пишите, Дмитрий.
Уже сквозь страницу, содержавшую несколько последних абзацев, несмотря на толщину и приобретённый с веками цвет бумаги, виднелось что-то тёмное, отпечатанное или нарисованное на следующем, лежащем под ней листе. Приняв это за иллюстрацию, я подавил в себе любопытство и не стал забегать вперёд, чтобы поскорее её рассмотреть. Я сосредоточился на переводе, вскоре забыл о проступавшем сквозь бумагу неясном силуэте и без труда вытерпел до конца страницы. Но перевернув её на словах «была прервана», я застыл: то, что я принял за гравюру или рисунок, оказалось бурым пятном причудливой формы и самого зловещего вида. Я не сомневался ни секунды: это была кровь, и, судя по характерному ржавому оттенку, пролитая не так давно. Мне пару разу приходилось наблюдать, когда у меня в школе кровь шла носом, как такие пятна постепенно высыхают на листиках в клеточку и линеечку. С гладкой поверхности таких листов соскальзывают даже шариковые ручки, а упавшие на бумагу ярко-красные кровяные капли будут одиноко остывать, медленно выцветая по мере того, как задыхаются и погибают эритроциты. Цвет этих пятен в школьных тетрадях распределяется неравномерно: под действием силы тяжести и векторов молекулярного движения кровь соберётся в одной точке пятна, где, в конечном итоге, бумага будет темнее.
Это отступление может оказаться неуместным, но пока я, стараясь утихомирить застучавшее вдруг сердце, разглядывал кровавую кляксу на следующей странице, думать ни о чём другом у меня не выходило. Всё пятно было одинаково, ровно окрашено. Старая бумага, не покоробившись, жадно впитала кровь; так растрескавшаяся от июльской засухи земля, сколько её ни поливай, до капли выпивает всю воду. Листкам в клеточку и в линеечку несвойственна такая вампирическая жажда; конверсионные чудища постсоветской писчебумажной промышленности, из чрева которых выходят сотни тонн школьных тетрадей, не умеют вдохнуть в бумагу жизнь. А вот бумага испанского дневника была осязаемо живой… Оно находилось внизу не заполненной до конца текстом страницы – почти там же, где на исходе Capнtulo II располагался рисунок уродца Чака; должно быть, я принял его за картинку ещё и по этой причине. В кляксах, как и в облаках, можно бесконечно угадывать всевозможные очертания, это известно каждому, кому психолог хоть раз подсовывал свои злокозненные бумажки с тестами Роршаха. То, что для одного пациента выглядит как бабочка, другому видится ядерным грибом, а третьему – сиамскими близнецами в профиль. Изобретение Роршаха – камертон для настройщиков человеческих душ.
Моя, видимо, была изрядно расстроена. С одной стороны, я прекрасно сознавал, что бурое пятно на бумаге – такая же бессмысленная клякса, как растёкшаяся тушь на бланках с тестами; с другой – его линии однозначно складывались в силуэт какого-то фантастического животного. Равномерно высохшая кровь делала рисунок вдвойне жутким и невозможным: её не размазывали, добиваясь зловещего сходства, она словно сама легла так на бумагу, которая тут же всосала попавшую на неё жидкость. Процарапанные карандашом бороздки я заметил не сразу: все следы грифеля были старательно стёрты резинкой, и к тому же, пятно покрывало большую часть надписи. Из-под покрова выбивался только хвостик буквы «й», и я не обратил бы на него внимания, если бы не стал так усердно изучать контуры кляксы. Не понимая толком, зачем я это делаю, я тоже взял карандаш и покрыл пятно лёгкими штрихами. Конспиративный приём из моего детства сработал: сквозь косой грифельный дождь бороздками проступили четыре написанные по-русски слова: «они идут за мной».

